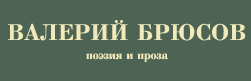|
... Еще живо представлялась
мне великая и ужасная картина Березины, взломанной бегущей армией. Как будто
дух Божий хотел показать на этом месте всю силу своего гнева - взорвал реку
с основания ее и, со всем, что застал живого, оледенил ее вдруг своим
дуновением. Среди обломков колес и осей, изорванной и окровавленной одежды,
трупов лошадей, руки, поднятые изо льдины и как будто еще молящие о спасении
или угрожающие, лики мертвецов, с оледеневшими волосами, искривленные, с
бешенством проклятия или с улыбкою новой жизни на устах*, а кругом снежная,
с тощим кустарником, степь, подернутая вечерним полусумраком. Ни одного
звука на этом ледяном кладбище, кроме стука от подков моей лошади, пугливо
ступающей между мертвецами; ни одной живой души, кроме меня, с (бывшим)
дядькой моим, который весь трясется и жутко озирается. Все это живо
представлялось мне на монмартрских высотах. Теперь я только что вышел из
огня сражения, из-под свиста пуль, цел, невредим - и передо мною, у ног
моих, расстилалась столица Франции... О ней мог я только мечтать во сне, и
вот, завтра же, вступаю в нее с победоносною армией... О! это чувство было
высокое, восторженное, но его произвело не зрелище красот Парижа, а стечение
обстоятельств, приведших меня к нему - обстановка этого зрелища. Чувство это
было совсем не то, которое наполнило душу мою при взгляде на родной город,
созданный гением великого Петра, возвеличенный и украшенный его преемниками.
- Прекрасно! - чудно! - мог я только сказать графу.
______________
* Я проезжал Березину спустя немного дней после переправы через нее
неприятеля.
Посвятив недели две на осмотр всего, что было замечательного в
Петербурге, я предался глубокому уединению, какое только позволяла мне
служба. В это время готовил я к печати свои "Походные Записки", в которых
столько юношеской восторженности и столько риторики. Признаюсь, писавши их,
я еще боялся отступить от кодексов Рижского и братии его, столь твердо
врученных мне профессором московского университета По[бедоносцева]...
|